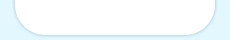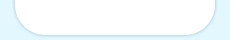| Вильгельм Карлович Кюхельбекер, комическое лицо мелодрамы. Он
воспитывался в лицее с Пушкиным, Дельвигом, Корфом и др., успел хорошо в
науках и отличался необыкновенным добродушием, безмерным тщеславием,
необузданным воображением, которое он называл поэзией, и
раздражительностью, которую можно было употреблять в хорошую и в дурную
сторону. Он был худощав, долговяз, неуклюж, говорил протяжно с немецким
акцентом. По выходе из лицея был он учителем в одной из петербургских
гимназий, потом поехал в чужие края секретарем при Александре Львовиче
Нарышкине, который было полюбил его, но вскоре принужден был с ним
расстаться. В Париже Кюхельбекер свел знакомство с какими-то
либеральными литераторами и вздумал читать на французском языке лекцию в
Атенее о литературе и политическом состоянии России, наполненную
вздорными идеями, которые тогда (1820 г.) были в моде. Часть публики
смеялась над ним, другая рукоплескала его выходкам. В конце речи он
сделал какое-то размашистое движение рукой, сшиб свечу, стакан с водой,
хотел удержать и сам слетел с кафедры. Один седой якобинец слушал его
внимательно и поддержал его словами: «Берегите себя, молодой человек!
Ваше отечество нуждается в вас». Нарышкин, узнав об этом, взбесился и
выгнал от себя Кюхельбекера, который пропал бы в Париже без помощи
благородного Василия Ивановича Туманского (писателя с замечательным
талантом, неизвестно почему оставившего службу и свет); он же помог
Кюхельбекеру пробраться в Россию. Здесь он жил то в Москве, то в
Петербурге, издавал в Москве с князем Одоевским журнал «Мнемозину»,
потом участвовал в разных изданиях петербургских. Пушкин любил
Кюхельбекера, но жестоко над ним издевался. Жуковский был зван куда-то
на вечер и не явился. Когда его спросили, зачем он не был, он отвечал:
«Мне что-то нездоровилось уж накануне, к тому же пришел Кюхельбекер, и я
остался дома». Пушкин написал: За ужином объелся я, Да Яков запер дверь оплошно, Так было мне, мои друзья, И кюхельбекерно и тошно. Кюхельбекер
взбесился и вызвал его на дуэль. Пушкин принял вызов. Оба выстрелили,
но пистолеты заряжены были клюквой, и дело кончилось ничем. Жаль, что
заряд Гекерна был не клюквенный! Кюхельбекер служил в 1824 году на
Кавказе, где приятелем его был Грибоедов, встретивший его у меня и с
первого взгляда принявший его за сумасшедшего. На Кавказе он тотчас
наделал глупостей, и Ермолов, называвший его «хлебопекарем», выпроводил
чудака. В Петербурге он занимался литературой, и в последнее лето (1825
г.) жил у меня, когда семейство мое было на даче, как я сказал, говоря о
Каховском. В сентябре он от меня выехал и поселился в доме Булатова,
что ныне Китнера, на углу Почтамтской улицы и Исаакиевской площади. В
обвинительном акте сказано, что он приступил к обществу вместе со
многими другими; потом, что его приняли после получения известия о
смерти Александра, или даже накануне происшествия. В воскресенье 29
ноября он обедал у меня, был тих, скромен, изъявлял сожаления о смерти
государя и прибавлял, улыбаясь: «Добрый был человек Александр Павлович;
другой царь не так поступил бы со мною». 14-го декабря, когда я, в
собрании моего семейства (из посторонних были при том Булгарин,
племянник его, Генерального штаба подпоручик, Демьян Александрович
Искрицкий и маклер Толченов), читал манифест, раздался громкий звон
колокольчика в передней, и вошел Кюхельбекер, расстроенный, со взглядом
театрального бандита, и, не здороваясь ни с кем, подошел и спросил у
меня: — Что вы читаете? Кажется, манифест? — Да, манифест. Слушайте! — отвечал я и продолжал чтение, а когда остановился на одном каком-то пункте, он спросил: — А позвольте узнать, от которого числа отречение Константина Павловича? Я отвечал: — Я и не видал. Посмотрим! От 26-го ноября. — От 26-го, — возразил он, — хорошо! Прощайте! Булгарин, с которым он в то время был на ножах, сказал ему, подавая руку: — Здравствуйте, Вильгельм Карлович! Он отвечал: «Здравствуйте и прощайте!» С этими словами он ринулся из комнаты. Матушка спросила у меня, что с ним сделалось. — Ничего, — отвечал я, — вероятно, пишет оду на восшествие на престол. Это
было часу в двенадцатом утра. Вскоре потом актер Каратыгин и еще кто-то
встретили его идущего в исступлении к Исаакиевской площади. — Слышали ль вы, — спросил один из них, — на Исаакиевской площади бунт. — Знаю, — отвечал Кюхельбекер, — это наше дело. Подвиг
его на площади описан в книге барона Корфа, который, однако, щадя
школьного своего товарища, не называет его по имени. Он метил пистолетом
в великого князя Михаила Павловича, которому был обязан своим
воспитанием — он был его пансионером, до вступления в лицей. Достойно
замечания, что люди сметливые и проворные не успели бежать, а
взбалмошный и бестолковый хлебопекарь утек из Петербурга и шел бы за
границу, если бы сам не сделал колоссальной глупости. Когда
сделалось известным, что Кюхельбекер бежал, приняты были все средства,
чтоб узнать, где он, и схватить его. И меня при этом тревожили. В самый
день 14-го декабря часу в первом ночи, когда все в доме у меня улеглись
спать, раздался громкий звон колокольчика у дверей. Я вскочил с постели,
накинул на себя халат и вышел в гостиную. Двери отворились, и вошел
полицмейстер Чихачев, сопровождаемый квартальными, жандармами, драгунами
и т. п. Не извиняясь в том, что потревожил меня, он сказал мне:
«Извольте отвечать на эти вопросы» — и подал бумагу, на которой было
написано: «Где живет Кюхельбекер? Где живет Каховский?» При этом имени
написано было в скобках: «(у Вознесенского моста, в гостинице Неаполь, в
доме Мюссара)». Было еще несколько имен, которых не упомню. Я отвечал: —
Кюхельбекер живет, сколько я знаю, неподалеку отсюда в доме Булатова. У
Каховского адрес показан, но верно ли, мне неизвестно. О прочих не
знаю. — Точно ли так? — спросил Чихачев. — Точно! — Знаете ли вы, кто написал это? Сам государь! — Хорошо пишет! — сказал я. Полицмейстер откланялся. В
четверток (17-го декабря) пришел ко мне брат мой, стоявший в карауле в
Зимнем дворце двое суток. Мы пошли с ним пройтись по улицам и около
четырех часов подошли обратно к моей квартире (в доме Бремме) на углу
Новоисаакиевской улицы и Исаакиевской площади. Я спросил, будет ли он у
меня обедать. Брат извинялся тем, что не хочет в нынешнее смутное время
оставлять свою роту. Вдруг увидели мы жандарма, который усиливался
разобрать прозвание домохозяина на бляхе дома. — Кого тебе надобно? — спросил я. — В доме Бремме ищу коллежского советника Греча. — На что тебе? — Обер-полицмейстер просит его прийти тотчас к нему. — Я этот Греч, — отвечал я. — Ступай и скажи, что я сейчас буду. С тем вместе сказал я брату: «Ты знаешь, куда я иду. Если не ворочусь, отыщи меня и приходи ко мне». Нанял
извозчика, заехал к Булгарину (жившему в Офицерской, в доме
Струговщикова, ныне Сельского) и объявил, куда еду. Когда я вошел в
гостиную обер-полицмейстера, Александра Сергеевича Шульгина, он, хватив
полный стаканчик рому, и, вероятно, с утра не первый, сказал мне
довольно учтиво: — Я должен попросить у вас объяснения по одному делу и прошу вас сказать сущую правду, по долгу чести и присяги. — И без этого предисловия, во всяком случае скажу вам сущую правду. Что вам угодно знать? — Знаете ли вы Кюхельбекера? — Знаю и очень коротко: он жил у меня все нынешнее лето. — И вы его узнаете, когда его вам покажут? — Непременно. — Итак, пожалуйте. Он ввел меня в другую комнату. Там поднялся с софы высокий, худощавый молодой человек. — Кюхельбекер ли это? — Нет! — А кто он? — Не знаю. Тогда молодой человек возопил жалким голосом: —
Как это, Николай Иванович, вы не хотите узнать меня?! Сколько раз
видали меня у Александра Федоровича Воейкова. Я Протасов, племянник
Александры Андреевны. Я вгляделся и вспомнил, что действительно его там видал. — Довольно, — сказал Шульгин, — нам нет нужды знать, кто он; довольно того, что он не Кюхельбекер. — В этом я могу вас уверить, — сказал я. — Да как вы напали на этого господина? —
Мы ищем Кюхельбекера по сообщенным нам приметам. Вот полиция нашла
этого долговязого господина, как он кутил в загородных трактирах, и
наложила на него руку. Извините, что я вас обеспокоил.
— Очень рад, что не больше, — отвечал я и попросил скорее отпустить невинного. Полиция искала Кюхельбекера по его приметам, которые описал Булгарин очень умно и метко. Но в Петербурге Кюхельбекера не было. Он
не знаю как пробрался до Варшавы и оттуда легко успел бы уйти за
границу; если б он говорил и имел дело только с поляками и жидами, то,
вероятно, ускользнул бы от поисков, но судьба навела его на русских. Он
вошел в одну харчевню или пивную лавочку в Праге (предместье Варшавы) и,
увидев пирующих там солдат, подсел к ним, начал беседовать и вздумал ни
с чего потчевать их пивом. В этой беседе открылся он весь, как был и
как описан в приметах. Один из присутствующих, унтер-офицер гвардии
Волынского полка Григорьев, догадался, кто должен быть этот взбалмошный
угоститель, и закричал: «Братцы, возьмите его: это Кюхельбекер!» Раба
божия схватили, заковали и отправили в Петербург. Так как главной
его виной было, что он метил пистолетом в Михаила Павловича, великий
князь просил о пощаде его. Кюхельбекер не был сослан в Сибирь, а сидел
несколько лет на гауптвахтах в Финляндии и в западных губерниях. Между
прочим содержался он в Динабургской крепости, но ходил на свободе и
занимался обучением детей коменданта. Наконец был освобожден, жил у
сестры своей (Глинки) в Смоленской губернии и там умер. Великий князь,
конечно, поступил великодушно, испросив облегчение судьбы несчастного,
но Кюхельбекер был взбалмошный полупомешанный человек и не мог подлежать
суду уголовному. Гораздо справедливее и человеколюбивее было бы
отправить его на жительство в деревню к сестре в самом начале. Виноваты
были те, которые взбаламутили слабую голову.
|