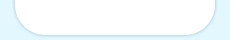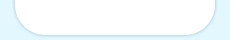|
Кондратий Федорович Рылеев — соучастник Пестеля, но самая резкая ему
противоположность. Один был аристократ и метил в цари; другой — человек не
важный и сам не знал, чего хотел. Рылеев, небогатый дворянин, был воспитан в
1-м кадетском корпусе, показывал с детства большую любознательность, учился
довольно хорошо, чему учили в корпусе, вел себя порядочно, но был непокорен и
дерзок с начальниками, и с намерением подвергался наказаниям: его секли
нещадно; он старался выдержать характер, не произносил ни жалоб, ни малейшего
стона и, став на ноги, опять начинал грубить офицеру.
Он был выпущен в артиллерию, вскоре вышел в отставку и был по выборам
дворянства заседателем в Петербургской Уголовной Палате, служил усердно и
честно, всячески старался о смягчении судьбы подсудимых, особенно простых,
беззащитных людей. В то же время был он правителем дел Правления
Российско-Американской компании. Как я слышал от директора компании Ивана
Васильевича Прокофьева, он в начале своего служения трудился ревностно и с
большой пользой, но потом, одурев от либеральных мечтаний, охладел к службе и
валил через пень колоду.
Поэтического дарования он не имел и писал стихи не гладкие, но замечательные
своею силой и дерзостью. В послании к Вяземскому, написанном будто бы в
подражание Персиевой сатире к Рубеллию, напечатанном в «Невском Вестнике», он
говорил очень явно об Аракчееве:
Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в высший сан пронырствами злодей,
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, подлец!
В одном отношении Рылеев стоит выше своих соучастников. Почти все они,
замышляя зло против правительства и лично против государя, находились в его
службе, получали чины, ордена, жалованье, денежные и другие награды. Рылеев,
замыслив действовать против правительства, перестал пользоваться его пособием и
милостями.
В этом отношении могу сообщить любопытный анекдот, характеризующий либералов
всех времен и стран. Николай Иванович Тургенев, будучи статс-секретарем
Государственного совета, пользуясь разными окладами и т. п., толковал
громогласно об всех министрах, и особенно истощал все свое красноречие на
обличение Аракчеева. В начале 1824 года изъявил он желание ехать за границу:
ему дали чин действительного статского советника, орден Владимира 3-й степени
и, кажется, тысячу червонцев на проезд. Тургенев обедывал обыкновенно в
Английском клубе и после обеда возвращался домой пешком, но вскоре, уставая от
хромоты, отдыхал на скамье аллеи Невского проспекта. Вечером в апреле (1824) мы
шли с Булгариным по проспекту, увидели отдыхающего Тургенева и присели к нему.
Булгарин стал рассказывать, как я накануне в большой компании уличал гравера Уткина
в лености и говорил: «Ты выгравировал картофельный нос Аракчеева, получил зато
пенсию и перестал работать». Булгарин думал, что рассмешит Тургенева, вышло
иное; тот сказал с некоторой досадою: «С чего взяли, будто у Аракчеева
картофельный нос: у него умное русское лицо!» Нас так и обдало кипятком. «Вот
наши либералы! — сказали мы в один голос. — Дай им на водку, все простят!»
Воротимся к
Рылееву. Откуда залезли в его хамскую голову либеральные идеи? Прочие
заговорщики воспитаны были за границей, читали иностранные книги и газеты, а
этот неуч, которого мы обыкновенно звали цвибелем, откуда набрался этого
вздору? Из книги: «Сокращенная библиотека», составленной для чтения кадет
учителем корпуса, даровитым, но пьяным Железниковым, который помешал в ней целиком
разные республиканские рассказы, описания, речи, из тогдашних журналов.
Утверждают, что мятежники 14-го декабря были большей частью лицеисты. Неправда:
были два лицеиста, Пущин и Кюхельбекер, да и последний был полоумным. Большая
часть была воспитанники 1-го кадетского корпуса, читатели библиотеки
Железникова.
Заманчивые
идеи либерализма, свободы, равенства, республиканских доблестей ослепили
молодого недообразованного человека! Читай он по-французски и по-немецки, не
говорю уже по-английски, он с ядом нашел бы и противоядие. За улыбающимися
обещаниями и светлыми мечтами 1789 года разверзла бы перед ним пасти свои гидра
1793 года!
Революции
1830 и 1848 годов имели благие последствия для направления умов в Европе,
показав, что за свободой для народов, не понимающих ее и к ней непривыкших,
следует своеволие; за своеволием жесточайший деспотизм. Мечтания и обаяния
пылкого оптимизма исчезают перед светом истории. Кажется, опыт научил нас, что
известный образ правления, как пища человеческая, равно несвойствен всем
народам.
Нации
холодные, рассудительные, притом нравственные и преимущественно
прозаически-протестантские, могут жить под правлением рассудка и права,
выражающимся формой представительной. Англичане, шведы, датчане, северные
германцы (а не глупые австрийцы), североамериканцы под этой формой живут
счастливо и успешно. Народы племени романского и славянского к ней неспособны:
у них должна царствовать палка, да и палка.
Упаси,
бывало, Боже, в двадцатых годах возгласить эти пресные математические истины:
поднимут тебя на смешки, выставят дураком и, что еще хуже, подлецом, рабом и
шпионом! Большинство либеральных умов было так велико, что его решения
считались мнением общим, за немногими исключениями; к нему привыкли, как к
закону всесильной моды, никто не смел ему противоречить, в нем сомневаться. И в
этой толпе олухов и пустомелей вращались лица, замыслившие мятеж и перемену
правительства, но так как они говорили, как все, никто не замечал их, и потому
не удивительно, что бедный генерал-губернатор граф Милорадович, в эпоху общего
жужжания, не мог отличить мух ядовитых от просто жужжавших и только грязных. К
тому же запевалами в этом хоре были аристократы, подававшие тон в высшем
обществе. Вот полезли за ними мошки и букашки.
Рылеев был
не злоумышленник, не формальный бунтовщик, а фанатик, слабоумный человек,
помешавшийся на пункте конституции. Бывало, сядет у меня в кабинете и возьмет
«Гамбургскую газету», читает, ничего не понимая, строчку за строчкой; дойдет до
слова Constitution, вскочит и обратится ко мне: «Сделайте одолжение, Николай
Иванович, переведите мне, что тут такое. Должно быть, очень хорошо!»
Фанатизм
силен и заразителен, и потому не удивительно, что пошлый, необразованный Рылеев
успел увлечь за собой людей, которые были несравненно выше его во всех
отношениях, — например, Александра Бестужева. Однажды шли они вдвоем из
заседания Общества соревнователей просвещения и благотворительности и
толковали, каким образом может быть направлено это общество к какой-либо
высшей, практической цели. Тогда Рылеев открыл Бестужеву о замысле некоторых,
по его словам, благородных людей, имеющих целью преобразование России, и взял с
него слово приступить к этому скопищу.
С Николаем
Тургеневым Рылеев познакомился у меня, 4 октября 1822 года, на праздновании
десятилетия «Сына Отечества». Меня и многих изумило, что надутый аристократ и
геттингенский дурак долго беседовал с плебеем и кадетом, который даже не
говорил по-французски. Могли ли мы воображать, о чем они толкуют и до чего
дойдет бедный цвибель! Рылеев сделался двигателем и душой этого дела, искал,
набирал соумышленников, внушал им свои революционные мечтания, писал
сатирические и возмутительные стихи.
Сообщу
средства, какими эти господа вербовали рекрут, в которых предполагали законный по
ним рост. Однажды Рылеев сидел у меня вечером в кабинете наедине со мной и
толковал о разных неинтересных предметах. Вдруг сказал он:
—
Удивительно, как иногда можно очутиться в неприятном положении.
— Точно, —
отвечая я, — мало ли что бывает.
— А что, по-вашему,
— спросил он, — было бы вам неприятнее всего?
— Всего
неприятнее было бы, — отвечал я, — если бы мне следовало завтра заплатить три
тысячи рублей, которые я должен на честное слово, и у меня не было бы ни
копейки.
— Это
пустое, — сказал Рылеев, — есть случаи гораздо неприятнее.
— А какие,
например?
— Вот, —
сказал он, вперив в меня свои вечно движущиеся маленькие глаза. — Если бы вам
открыли, что существует заговор против правительства и пригласили бы в него
вступить? А? Что бы вы сделали?
— Это решить
нетрудно, — отвечал я хладнокровно и вовсе того не подозревая, что он говорит
это с каким-либо намерением. — Я поступил бы с приятелем, как советовал граф
Растопчин поступать с французским шпионом: за хохол да и на съезжую.
— Возможно
ли, — сказал он, — так думать! Подумайте, если бы заговор был составлен для
блага и спасения государства, как, например, против Павла Первого.
— Нет,
Кондратий Федорович, — отвечал я, — заговоры составляются не для блага
государства, а для удовлетворения тщеславия или корыстолюбия частных лиц.
Пользы они не принесут никакой, кроме горького урока. Что же касается до
заговора, какой был против Павла, во-первых, участники его князья, графы,
адъютанты не оказали бы нам, прочим смертным, великой чести участвовать в их
подвиге, а во-вторых, я гораздо скорее желал бы быть на месте камер-гусара
Саблина, которому заговорщики изрубили голову, когда он закричал Павлу:
«Государь! Спасайся!» — нежели, как Платон Зубов, шататься по свету подобно
Каину с клеймом на лбу: цареубийца!
— Да что же
вас так привязывает к царям? — спросил он с какою-то досадой.
— Положим, —
отвечал я, — что вы ни во что ставите присягу, но между царем и мной есть
взаимное условие: он оберегает меня от внешних врагов и от внутренних
разбойников, от пожара, от наводнения, велит мостить и чистить улицы, зажигать
фонари, а с меня требует только; сиди тихо! Вот я и сижу.
Рылеев не
продолжал разговора, обратил речь к чему-то другому и, напившись чаю, уехал.
Потом он никогда не проронил о том ни слова.
Другое
искушение. Никита Михайлович Муравьев повадился приезжать ко мне по утрам,
едучи на службу в Главный штаб. Приедет, поболтает, и только. Разумеется,
разговоры были тогдашние, либеральные. Однажды приехав ко мне, нашел он меня в
большой досаде и расстройстве. На вопрос о том, что меня сердит, я отвечал: «Да
вот, посмотрите, как этот дурак цензор Бируков вымарал из «Сына Отечества»
самые невинные вещи, в которых он видит черт знает что! Да и хорошо наше умное
правительство! Цензуру поручает набитым дуракам и подлецам. Ну может ли такой
глупый семинарист судить о литературе, о политике? Может ли он быть хорошим,
верным подданным? А ему верят, а не верят мне, известному писателю, дворянину,
отцу семейства; стану ли я изменять правительству, действовать вопреки его видам?
При этих словах, сказанных без умысла, от глубины души, Муравьев, видимо
смутился, тотчас уехал и уже не являлся более.
Третья
вербовка была еще оригинальнее. В ноябре 1825 года, за месяц до вспышки, я
обедал у Булгарина с Батеньковым и Погодиным. Батеньков пил досуха и в конце
обеда спросил еще шампанского. Эти господа в последнее время пили непомерно,
как бы стараясь тем придать себе духу или выбить что-то из ума и памяти.
Булгарин, не желая оскорбить чувство бережливости своей тетки, сказал ему:
«Пойдем ко мне в кабинет и выпьем там на просторе». Встали и пошли. На стол
поставили бутылку, наполнили стаканы. Батеньков, развалившийся с трубкой в
зубах на диване, духом выпил стакан, крякнул и сказал:
— Ах, как
все гадко в России! Житья скоро не будет. Не правда ли, Николай Иванович?
Я отвечал:
— Кому и
знать это, если не вам, мизинцу правой руки государевой!
— Нет, —
продолжал он, — невтерпеж приходит.
Булгарин
испугался этих слов из уст Батенькова.
— Ну полно,
— сказал он, — что ты людей морочишь, аракчеевский шпион.
— Молчи, —
возразил Батеньков, — я не с тобой говорю. Ты поляк, и чем для нас хуже, тем
для вас лучше. Я говорю с Николаем Ивановичем: он сын отечества и согласится со
мной, что все это надо переделать и переменить.
— Да нашли
ли вы на то средство? — сказал я, чтоб сказать что-нибудь.
— Нашел!
Надобно составить тайное общество, набрать в него сколько найдется честных
людей в России, прибрать в руки власть и рассадить этих людей по всем местам.
Тогда Россия переродится.
Булгарин
трусил и показывал мне знаками, чтоб я не соглашался. Батеньков продолжал:
— Конечно,
вы, Николай Иванович, не откажетесь вступить в такое общество?
—
Разумеется, не откажусь.
Булгарин
побледнел. Батеньков поднялся, выпустил трубку изо рта.
— В самом
деле? — спросил он.
— В самом
деле, — отвечал я, — только у меня есть одно маленькое условие.
— Какое?
— Чтоб
председателем этого общества был обер-полицмейстер Иван Васильевич Гладкий.
Булгарин
восхитился, расхохотался и закричал:
— Ай да
Греч! Браво, браво! Председатель Гладкий!
Батеньков
возразил с досадою:
— Да вы
шутите, Николай Иванович?
— И вы,
конечно, шутите, Гаврило Степанович, — отвечал я.
Разговор
принял другое направление.
Я приписывал
эти отзывы Батенькова внушениям паров шампанского, не воображая, чтобы член Совета
военных поселений мог в здравом уме говорить такие вещи. Через несколько дней
после 14-го декабря узнал я, что и он был в этом заговоре. Не приписываю себе
никакой заслуги, что не попал сам в эту кутерьму. Меня предохранила оттого,
во-первых, семеновская история: в ней видел я, как легко было запутаться одним
словом, одним каким-либо необдуманным шагом. Во-вторых, берегла меня милость
божия!
Сколько
запутано было в это дело людей, виновных столько же, как и я; слышавших дерзкие
речи и не донесших о них, потому что считали их пустыми и ничтожными. Так,
например, в донесении следственной комиссии отзыв Якубовича («Вы хотите быть
головами, господа! Пусть так, но оставьте нам руки») сказан был в моем
присутствии. Это было в субботу 26-го ноября, на обеде у директора Американской
компании, Ивана Васильевича Прокофьева. Обедали у него, сколько помню, Ф. Н.
Глинка, Батеньков, Якубович, Рылеев, Михаил Кюхельбекер, Александр Бестужев,
Штейнгель, Муханов, я и еще несколько человек. Булгарина, помнится, не было. Беседа
была шумная, веселая и преприятная. Добрый хлебосол ходил вокруг стола и
подливал вина, добываемого за шкуры сивучей и котиков, не догадываясь, кого
потчевает. Вдруг Батеньков спросил:
— А где
Николай Иванович? (Кусов, тогдашний городской голова.)
Отвечали,
что он остался за Невой, которая только что стала.
— Голова! —
сказал Батеньков. — Какое славное звание голова! Ну что значит против этого
какой-нибудь майор! Ах, если бы быть головой!
Якубович
сказал на это:
— Будьте
головами, только нам развяжите руки.
Все мы,
непричастные к удольфским таинствам, приняли эти слова раненного на Кавказе
офицера, с повязанной головой, за желание его подраться с горцами. И сколько
таких порывов и намеков промелькнуло у нас мимо ушей!
Какая была
цель Рылеева? Он сам ее не знал. Учреждение ли конституционного правления,
водворение ли республики; только бы пошуметь, подраться, пролить крови и
заслужить статью в газетах, а потом и в истории. Нечего сказать! Завидная
слава!
12-го
декабря в бывшем у него в квартире предуготовительном собрании заговорщиков он
вынудил у них согласие взбунтовать войска и народ 14-го числа и потом, при
следствии, откровенно признался, что был главным деятелем, и если бы хотел, то
мог бы все остановить.
14-го
декабря Рылеев сам на площади не сражался, но бегал повсюду, как угорелая
кошка, поощрял своих соумышленников, приглашал людей из народа к участию в
бунте, причем происходили иногда сцены пресмешные и оригинальные. Когда начала
напирать гвардия и впереди ее корпусный командир, генерал Воинов, Рылеев
закричал мужикам:
— Что вы
стоите, братцы! Бейте их: они ваши злодеи!
— Да чем
прикажете?
— Хоть вот
этими поленьями, — сказал он, указав на дрова, складенные у забора Исаакиевской
церкви.
— Помилуйте,
ваше благородие, — отвечали ему, — как можно! Дрова-то казенные!
Когда
кончилась драка, Рылеев скитался не знаю где, но к вечеру пришел домой. У него
собралось несколько героев того дня, между прочим, барон Штейнгель: они сели за
стол и закурили сигары.
Булгарин,
жестоко ошеломленный взрывом, о котором он имел темное предчувствие, пришел к
нему часов в восемь и нашел честную компанию, преспокойно сидящую за чаем.
Рылеев встал, преспокойно отвел его в переднюю и сказал: «Тебе здесь не место.
Ты будешь жив, ступай домой. Я погиб! Прости! Не оставляй жены моей и ребенка».
Поцеловал его и выпроводил из дому.
Он не только
не устрашался смерти, но и встречал ее с какою-то гордой радостью. Выслушав
смертный приговор, он написал к жене своей письмо следующего содержания:
13 июля 1826
года.
Бог и
Государь решили участь мою: я должен умереть и умереть смертью позорной. Да
будет Его Святая воля! Мой милый друг, предайся и ты воле Всемогущего, и Он
утешит тебя. За душу мою молись Богу: Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на
Него, ни на Государя; это будет безрассудно и грешно. Нам ли постигнуть
неисповедимые суды Непостижимого? Я ни разу не возроптал во все время моего
заключения и за то Дух Святый дивно утешал меня.
Подивись,
мои друг, и в сию самую минуту, когда я занят только тобой и нашею малюткой, я
нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе.
О милый
друг, как спасительно быть христианином! Благодарю моего Создателя, что Он меня
просветил и что я умираю во Христе, это дивное спокойствие порукой, что Творец не
оставит ни тебя, ни нашей малютки. Ради Бога не предавайся отчаянию: ищи
утешения в религии, Я просил нашего священника посещать тебя. Слушай советов
его и поручи ему молиться о душе моей. Отдай ему одну из золотых табакерок в
знак признательности моей или, лучше сказать, на память, потому что
возблагодарить его может только один Бог за то благодеяние, которое он оказал
мне своими беседами.
Ты не
оставайся здесь долго, а старайся кончить скорее дела свои и отправься к
почтеннейшей матушке. Проси ее, чтобы она простила меня; равно всех родных
своих проси о том же. Катерине Ивановне и детям ее кланяйся и скажи, чтобы они
не роптали на меня за М.П.[33], не я его вовлек в общую беду: он сам это
засвидетельствует. Я хотел было просить свидания с тобою; но раздумал, чтоб не
расстроить себя. Молю за тебя и Настиньку и за бедную сестру Бога, и буду всю
ночь молиться. С рассветом будет у меня священник, мой друг и благодетель, и
опять причастит. Настиньку благословляю мысленно нерукотворенным образом
Спасителя и поручаю всех вас святому покровительству живого Бога. Прошу тебя:
более всего заботься о воспитании ее. Я желал бы, чтобы она был воспитана при
тебе. Старайся перелить в нее христианские чувства — и она будет счастлива,
несмотря ни на какие превратности в жизни, и когда будет иметь мужа, то
осчастливит и его, как ты, мой милый, мой добрый неоцененный друг, счастливила
меня в продолжение восьми лет. Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами: они
не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. Почтеннейшей Прасковье
Васильевне моя душевная, искренняя, предсмертная благодарность. Прощай! Велят
одеваться. Да будет Его Святая воля.
Твой истинный друг К. Рылеев.
Не трудно понять, что он разумел под словами Духа Святого и Христа!
Он сделал к письму коротенькую приписку, в которой распоряжался какою-то
неважной суммой, будто ехал на дачу. Он был из числа тех трех несчастных,
которые сорвались с петли и были повешены вторично. Говорят, он сказал при том:
«И в этом неудача!» Можно сказать, что он погиб от несварения в желудке
неразжеванной пищи.
|